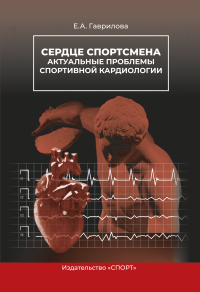Шрифт:
Закладка:
Группа «Митьки» — важная и до сих пор недостаточно изученная страница из бурной истории русского нонконформистского искусства 1980-х. В своих сатирических стихах и прозе, поп-музыке, кино и перформансе «Митьки» сформировали политически поливалентное диссидентское искусство, близкое к европейскому авангарду и американской контркультуре. Без митьковского опыта не было бы современного российского протестного акционизма — вплоть до акций Петра Павленского и «Pussy Riot». Автор книги опирается не только на литературу, публицистику и искусствоведческие работы, но и на собственные обширные интервью с «митьками» (Дмитрий Шагин, Владимир Шинкарёв, Ольга и Александр Флоренские, Виктор Тихомиров и другие), затрагивающие проблемы государственного авторитаризма, милитаризма и социальных ограничений с брежневских времен до наших дней. Александр Михаилович — почетный профессор компаративистики и русистики в Университете Хофстра и приглашенный профессор литературы в Беннингтонском колледже. Publisher’s edition of The Mitki and the Art of Post Modern Protest in Russia by Alexandar Mihailovic is published by arrangement with the University of Wisconsin Press.